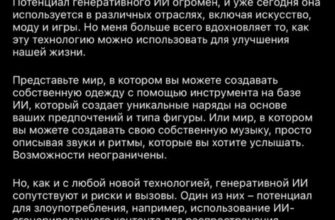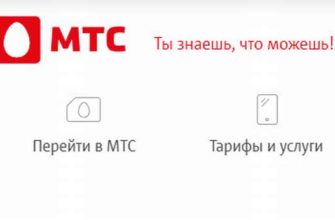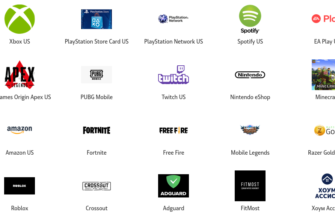Богатые беднеют? да ладно…
Комментируя данные Росстата о падении реальных доходов населения в 2021 году, Минэкономразвития указывает на «серьезную дифференциацию» в зависимости от уровня доходов. Доходы наиболее бедных слоев населения в минувшем году повысились, говорят в МЭР и приводят следующие аргументы:
МРОТ в 2021 году наконец-то был повышен до прожиточного минимума, увеличились выплаты семьям с детьми и выросли зарплаты в бюджетном секторе. В свою очередь, доходы наиболее обеспеченных россиян уменьшились из-за роста налогов на недвижимость, снижения доходности по банковским депозитам и росту платежей по ипотечным кредитам. Однако здесь очень важно уточнить, кто именно те самые «наиболее обеспеченные» россияне.
«Согласно расчетам МЭР, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, сократились доходы так называемых восьмой и девятой децили, которые, по данным Росстата, имеют среднюю зарплату примерно в 50—60 тысяч рублей в месяц, — говорит начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Николай Кащеев.
— Согласно собственной оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства, 60 тысяч — это нижняя часть среднего класса (кроме Москвы, где планка отнесения к среднему классу — свыше 120 тысяч рублей)». То есть доходы упали, к сожалению, не у олигархов, а у малочисленных представителей российского среднего класса. Средняя зарплата в стране, напомним, по данным Росстата, составляет 42,6 тыс. рублей.
«В то же время у наиболее состоятельных граждан выросли доходы, которые формируются от экспорта сырья: в 2021 году цены на сырьевые товары были высокими, — говорит генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. — С учетом слабого рубля они принесли большие прибыли владельцам и топ-менеджерам экспортно ориентированного бизнеса».
Глобальная бедность
Однако проблема в том, что работающим людям становится тяжелее жить во всем мире. По крайней мере, в развитом. Рост благосостояния, расцвет среднего класса, который наблюдался в развитых странах после Второй мировой войны, кажется, исчерпал свой ресурс.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приводит такую статистику: сегодня разница в доходах между 10% самого богатого населения стран ОЭСР и 10% самого бедного составляет 9,5 раза. Для сравнения: 25 лет назад она составляла 7 раз.
Причем Россия, на первый взгляд, выглядит не так уж плохо на фоне других стран. «Например, по данным Всемирного банка, верхний дециль по доходам в РФ зарабатывает в 11 раз больше нижнего (по данным Росстата — в 16), а в Бразилии — в 37 раз, в США — в 18 раз, в Германии — в 7,5 раза, — говорит Николай Кащеев.
— Проблема в том, что в развитых странах, где коэффициент расслоения больше, чем в России (например, в США), или близок к российскому (например, в Италии), заметно выше общий уровень жизни. Именно об этом говорят более чем скромные численные показатели среднего класса в РФ по меркам, близким к европейским».
Положение россиян становится еще более печальным, если посмотреть, как менялось благосостояние разных слоев населения во времени. «В мире, по данным Мировой базы данных по неравенству, с 1980 по 2021 год общий размер доходов всего населения увеличился на 60% в реальном выражении, людей с невысокими доходами (нижние 50%) — удвоился, люди со средним доходом (40% населения) стали зарабатывать больше на 43%, а доходы богатых возросли на 70%», — приводит данные Николай Кащеев. Пусть вас не обманывают цифры, демонстрирующие, что даже бедные стали жить вдвое лучше. В реальности все сложнее.
«В России доходы нижних 50% упали на 26% в реальном выражении, доходы среднего класса выросли на 5%, а богатых 10% — почти втрое, — продолжает Кащеев. — Что за методология использовалась для сравнения 2021 и 1980 годов для России и СССР, мы не рассматривали.
Однако насчет большей или меньшей точности данных для США сомнений нет: нижние 50% увеличили доходы на 5%, средние — на 44%, богатые — на 123%. В Европе картина намного равномернее: 26%, 34% и 58% соответственно». Откуда же взялось это удвоение доходов бедных, зафиксированное на глобальном уровне? В первую очередь — за счет Китая, поясняет Кащеев.
Если же говорить о странах развитого мира, то в них у бедности есть определенная черта. В странах с развитой пенсионной системой в значительной степени решена проблема бедности пенсионеров, а вот работающие бедные — частая история и в Британии, и в Штатах, ну и в развивающихся странах, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Сегодня разница в доходах между 10% самого богатого населения стран ОЭСР и 10% самого бедного составляет 9,5 раза. Для сравнения: 25 лет назад она составляла 7 раз.
Продать себя подороже
А чего ожидать в России?
«В России прогноз неважный: пока не начата замена рентной сырьевой модели экономики, ничего особенно хорошего людей не ждет», — категоричен Николай Кащеев.
«Российская структура бедности сложилась после распада СССР и разрушения тех производственных структур, которые формировали экономику с точки зрения вовлечения максимальных человеческих ресурсов», — говорит Павел Сигал. В бедность ушло множество профессий.
Повышать качество рабочей силы, чтобы и при текущей экономической ситуации люди могли бы улучшить свое положение, предлагает Антон Табах. «Надо улучшать навыки работников путем дополнительного образования, стимулировать создание новых рабочих мест путем налоговых льгот и госпрограмм, снижать барьеры для миграции», — перечисляет Табах.
Важно повысить доступность образования не только для учащихся, но и для трудоспособного населения, считает управляющий партнер консалтинговой компании Rebridge Capital Сурен Айрапетян. «В эту сторону сейчас двигается и государство, и крупные бизнесы, создавая различные образовательные порталы, доступ к которым можно получить бесплатно, — говорит эксперт. — Новые знания и навыки, конечно же, позволят гражданам увеличивать свои компетенции».
Но одновременно надо сократить штат низкооплачиваемых практически ничего не производящих рабочих мест, считает Роман Макаров. «И это самое трудное решение, — признает он. — Работников следует переобучить и повысить их квалификацию, чтобы они могли найти новое, высокопроизводительное рабочее место».
Конечно, повышение качества рабочей силы, рост производительности труда и, следовательно, заработных плат быстрее происходит в случае разгосударствления экономики: частный бизнес более мобилен в этих вопросах, добавляют наши эксперты. Но на это вряд ли пока стоит рассчитывать в России.
Проклятие сбылось: мы живем в эпоху перемен
Дальше будет только хуже. Сокращается число рабочих мест для работников без продвинутого образования, уверен Антон Табах. Причина — смена технологического уклада. «Выдающиеся в различных отношениях люди в результате технологического прогресса получили эксклюзивную возможность для обогащения, в то время как общая, «конвейерная» масса населения все менее востребована», — считает Николай Кащеев.
Мы присутствуем при смене технологического уклада, а эти процессы всегда проходят болезненно для общества. «Нынешние противоречия, возникающие из-за идущей постиндустриализации с сопутствующей глобализацией, проходят и внутри стран, и по географическим границам не только у нас и наших главных геополитических партнеров, но и в Европе, и на Ближнем Востоке, и, вероятно, в скором времени пойдут в Китае, — продолжает Кащеев.
Этот сдвиг начался в 1980-х годах, но самые тяжелые последствия для общества мы увидим в следующие 20 лет, прогнозирует управляющий директор группы Macro Trends компании Bain & Company Карен Харрис. По ее словам, в течение следующего десятилетия в одних только США в развитие автоматизации будет инвестировано до 8 трлн долларов, что приведет к исчезновению 20—25% рабочих мест (для США это означает около 40 млн рабочих мест), а 80% работников столкнутся со снижением заработной платы.
Выгоду от автоматизации получат лишь 20% населения — наиболее высококвалифицированные (в нужных отраслях) специалисты и владельцы капитала. Конечно, в долгосрочной перспективе уровень жизни улучшится и все выиграют, но в ближайшие годы уровень жизни значительной части населения снизится, что приведет к снижению потребления и к замедлению экономического роста, предупреждает Харрис.
Неизбежным следствием этих перемен уже сейчас стал популизм. «Феномен Трампа — как раз реакция на такую причину разрыва доходов и попытка вернуть производство в США, поскольку хай-тека оказалось недостаточно», — указывает Павел Сигал. Но постепенно правый популизм сменится на левый, да и в целом рост левых настроений предопределен во всем мире, разве что проходить будет с разной скоростью, считает Николай Кащеев. Все более активно будет обсуждаться тема перераспределения и изучаться опыт Швеции как сверхсоциального государства.
«Судя по популярности повышения налогообложения богатых в США, мы можем увидеть радикальное изменение государственной политики, — говорит Антон Табах. — В американской прессе пишут, что казавшаяся безумной идея ставки подоходного налога для сверхбогатых в 70% теперь поддерживается большинством населения».
Раньше было лучше?
Почему это произошло? Причин несколько.
Во-первых, перестали работать социальные лифты, которые позволяли подниматься вверх по социальной и имущественной лестнице. В прошлом году ОЭСР опубликовала исследование «Сломанный социальный лифт? Как стимулировать социальную мобильность», которое демонстрирует, что социальный лифт хорошо работал для тех, кто родился с 1955 по 1975 год, а для более молодых он функционирует куда хуже.
Более того, этот лифт превратился, скорее, в «социальную шахту»: сегодня гораздо легче провалиться в бедность и нищету, чем улучшить свое положение. За четыре года наблюдений эксперты ОЭСР обнаружили, что каждая седьмая семья, принадлежащая к среднему классу, опустилась в группу самых бедных (нижние 20% по доходам). Среди семей из категории «нижний слой среднего класса» скатилась в бедность уже каждая пятая.
Во-вторых, перестали расти зарплаты. С начала 2021 года рост реальных зарплат в США составляет около 2% в год по сравнению с 4% до кризиса 2008 года и 7—9% в 1970-х и начале 1980-х годов. В странах ЕС последние годы рост номинальных зарплат оказывается ниже инфляции. То есть реальный размер зарплат снижается.
Более того, если сгладить небольшие колебания за последние десятилетия, то окажется, что покупательная способность американских зарплат не изменилась за последние 45 лет. Средняя ставка за час сегодня — 23,68 доллара, это ровно столько же для потребителя, сколько и средняя ставка в 1973 году — 4,03 доллара.
Но все еще хуже. Шанс американца на рост зарплаты напрямую зависит от размера этой зарплаты. Бюро трудовой статистики США подсчитало, как растут в реальном выражении зарплаты с 2000 года. Для 10% самых низких зарплат в США среднегодовой рост составил 3%, для нижних 25% — уже 4,3%.
Зарплаты в реальном выражении перестают расти отчасти из-за высокой инфляции, которая в современном мире все чаще зависит от цены на энергоресурсы, чем от состояния дел в национальной экономике. На них также давит технологический прогресс, о котором мы скажем чуть позже, и в некоторых сферах — приток мигрантов, офшоринг, аутсорсинг и прочие глобальные процессы на рынке труда.
Примечательно, как меняются доли труда и капитала в совокупном продукте. По данным МВФ, в период с 1970 по 2021 год доля труда сократилась с 55% до 51%: то есть на оплату труда уходит все меньшая доля прибыли компании. Прекрасной иллюстрацией стала история со снижением корпоративных налогов в конце 2021 года в США: предполагалось, что сэкономленные деньги превратятся в приток инвестиций в основной капитал.
И это еще одна причина растущего неравенства: если зарплаты растут медленнее ВВП, то доходность капитала — быстрее. «Рост неравенства в западных странах продолжается уже десятилетиями, но сильное ускорение темпов произошло после 2008 года: доходы от капитала стали расти быстрее, чем от производительного труда, — говорит Роман Макаров.
— Крупнейшие центральные банки (ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии) для преодоления последствий кризиса запустили печатный станок и накачали мировую экономику огромным количеством денег, что усугубило проблему. Это привело к самому долгому непрерывному циклу роста мировых фондовых рынков в истории, что резко увеличило доход владельцев капитала. Например, состояние 20 самых богатых людей с 2008 года увеличилось вдвое».
«Многие известные личности, в частности Марк Цукерберг, Джефф Безос, в разы увеличили свои состояния за счет роста акций технологических компаний, — отмечает аналитик компании QBF Денис Иконников. — Аналогичная ситуация и в России, где акции сырьевых компаний в последние десять лет выросли в разы».
Таким образом, разрыв между бедными и богатыми начал расти во всех развитых странах и даже в США, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Рост неравенства в западных странах продолжается уже десятилетиями, но сильное ускорение темпов произошло после 2008 года: доходы от капитала стали расти быстрее, чем от производительного труда.
Скрытые правила в разных классах общества
В ходе обсуждения постов про Англию я часто встречаюсь с некой расплывчатостью определения того самого “среднего класса”. Более того, люди спрашивают, что же это такое. Попробуем разобраться.
Что такое средний класс? Существует куча определений. И ни одно из них не является полным и всеобъемлющим. Можно начать с самого слова “средний”. Это те люди, которые находятся между бедными и богатыми. Некоторые определения идут от конкретной цифры: все граждане делятся по доходам на 5 частей: бедные, рабочие, средний класс, зажиточные и элита. Так вот часть от 40 до 60% является средним классом. Некоторые используют ту же методику, но в средний класс заносят всех, кроме 20% самых бедных и 20% самых богатых, т.е. 60% общества. В том же США понятие среднего класса несколько отличается от того же европейского и основано на самоопределении. Т.е. очень многие рабочие считают себя средним классом, т.к. не находятся в стесненных условиях. Сама история концепта идет от 18 века, когда средним классом считалась мелкая городская буржуазия, которая была ровно посередине между крестьянством и знатью.
Современное понимание среднего класса восходит к британскому определению от 1913 года данному в одной из статистических работ. Средним назывался класс между рабочими и высшим классом. Вот так вот просто. С тех пор сам термин претерпел кучу изменений во многих культурах, поэтому к его использованию нужно подходить с должной осмотрительностью.
Некоторые пытаются вообще уйти от числовых определений среднего класса и привязать его к потреблению. Например, средним классом в любом государстве будет считаться класс, который потребляет определенный набор благ и имеет возможность откладывать некую сумму денег. Журнал «Экономист» определяет средний класс как группу лиц, которые после удовлетворения всех своих базовых потребностей имеют в распоряжении не менее трети от первоначального дохода для любых других целей. Короче говоря, заплатил за еду, дом, одежду, бензин и т.п., в кошельке осталось треть зарплаты – добро пожаловать в средний класс, сынок. Это определение хорошо тем, что привязывает уровень среднего класса к уровню развития экономики страны, в которой данный класс анализируется. Проблема в том, что траты у всех людей разные. Кто-то может отложить и 80% своего дохода, просто экономит. При этом сыт, обут и одет.
Поэтому я бы определил средний класс следующим образом: это социальная страта, находящаяся между рабочим классом и элитой, для которой характерна возможность накопления не менее 1/3 от первоначального дохода после удовлетворения базовых потребностей на общепринятом для развитого общества уровне. Уровень потребления развитого общества – это ключевая часть определения. Если человек откладывает не менее 1/3 зарплаты, но живет вчетвером в двухкомнатной квартире на 48 метров, ест макароны и картошку, то это не средний класс.
Средний класс в мировом масштабе растет. Это общемировая тенденция и считается позитивной нормой. Самыми значительным вкладчиками в рост среднего класса на планете являются Китай и Индия. Страны, где средний класс не растет или уменьшается, как правило, находятся в стагнации и зоне риска.
Что в Англии?
В Британии средний класс обычно обладает комбинацией следующих признаков: высшее образование, профессиональный статус, поддержка буржуазных ценностей (дом, надежная работа, денежные накопления, постепенное развитие, отказ от рисков), образ жизни, манеры, акцент, тип посещаемой школы, круг друзей и знакомых. При этом значимость акцента, манер и социального круга выделяются именно в Англии. В тех же США на манеры и акцент внимания обращают меньше, там важнее конкретный успех и уровень потребления, а манеры и акцент важнее для элиты. Вопрос классовости является краеугольным в самоидентификации рядового британца. Для местного населения крайне важно принадлежать к некой группе лиц и передавать этот статус по наследству. Как я уже писал в прошлых постах, личный финансовый успех одного человека не является мерилом успешности. А вот если данный человек успешен в 3-4 поколении – это замечательно. Особенно, если это верхние слои среднего класса или элита. Вопрос принадлежности к какой-то группе так важен, что в 2021 году в Англии было проведено огромное исследование классовости общества на выборке из 160 000 респондентов. Надо думать, что влетело это в копеечку, но британцам это нужно.
Т.к. сам по себе средний класс в Англии велик и обширен, люди стали делить его на группы. Например, низший средний класс (работники офисов, агенты, продавцы, мелкие чиновники), «средний» средний класс (обладатели высшего образования, управленцы, учителя, архитекторы, бухгалтера, юристы), высший средний класс (определяются не по доходам, а по социальному статусу, происхождению, школе. Могут быть различных профессий: профессура, адвокатура, банкиры. Часто являются потомками обедневшей знати. Например, Хелена Б. Картер – яркая представительница высшего среднего класса).
Для чего нужен средний класс? И нужен ли вообще?
Да, нужен. Средний класс выполняет множество функций.
1) Он снижает уровень социального напряжения. Чем больше представителей среднего класса в обществе, тем меньше разрыв между богатыми и бедными. Если средний класс развит, то в социуме обычно есть консенсус. При развитом среднем классе политические кризисы случаются редко, перевороты и революции в принципе нереальны. Пропаганда на средний класс действует слабо. Короче говоря, это генератор стабильности в хорошем смысле.
2) Он воспроизводит сам себя и всю систему. Единожды создав средний класс, его легко поддерживать. Дети, рожденные у родителей среднего класса как правило становятся представителями того же среднего класса. Им прививаются типовые ценности и культурные коды, которые они передают потомкам.
3) Средний класс является основой общества потребления. Это очень крупный потребитель. При этом средний класс потребляет разумно, как правило, имея сбережения, т.е. может сгладить периоды кризиса экономики
4) Пополнение рядов элиты. Верхние слои среднего класса вполне могут входить в элиту и создавать там некую конкуренцию. Борис Джонсон, например, представитель верхнего среднего класса.
Самое главное, что дает средний класс – это возможность передачи элитами своего статуса потомкам. Т.е. ту самую пресловутую стабильность. В развитых обществах элиты давно поняли, что важнее не получить сразу много, важнее это все как-то передать потомкам, причем в такой системе, чтобы и они могли это все передать далее. Для этого нужно стабильное общество, в котором некая большая прослойка должна принять такие правила игры. Если говорить просто, элита поняла, что лучше делиться и сохранять, чем грести под себя и вывозить. В той же Англии это осуществлено просто блестяще. К элите тем или иным образом относятся от 2 до 6% населения. Это богатые и сверхбогатые граждане. При этом для большинства из них данные богатства и статус – само собой разумеющийся факт, т.к. они передаются из поколения в поколение без единого потрясения. Средний класс же всячески поддерживает эту систему и даже поощряет ее, т.к. элита не занимается грабежом населения, а расслоение не столь велико, чтобы лодка качалась.
Элита Англии понимает, что коррупцию и всякие нехорошие вещи всегда лучше иметь вне страны, по этому поводу также достигнут полный консенсус. Пусть коррупция будет. Но в Африке, например. И у высшего среднего класса всегда есть возможность постепенного перехода в эту самую элиту. Как мы видим, ни одного серьезного политического потрясения за последние века в Англии не было. Двухпартийная система, которой уже сотни лет, вполне справляется с политическими функциями. Парламент официально разделен на лордов и простых людей. И всем все равно. Вся политическая конкуренция элит находится в строгих рамках системы, рекрутинг элит постепенный и занимает несколько поколений, что обеспечивает высокое качество и уровень подготовки эти самых элит в мировом масштабе. Самой элите в Англии все нравится. Именно поэтому они не экспортируют за рубеж ни деньги, ни семьи. У них уже устроен процесс передачи замшевых курток и магнитофонов на сотни лет вперед.И метод передачи – средний класс.
Именно в этом проблема стран с отсутствующим средним классом: там элиты не уверены в своем будущем. Поддержка низшими слоями очень нестабильна и опирается в основном на пропаганду. Поэтому они копят богатства одним поколением, фактически грабя население и вывозя деньги и детей в те страны, где механизм передачи отлажен. Например, в Англию. В своей же стране элита планомерно уничтожает средний класс, т.к. в короткой перспективе он опаснее, чем рабочий, потому что средний класс политически более активен, более образован и не поддается пропаганде. Отсюда проблемы с потреблением, высокие политические риски, отсутствие стабильности и прочие отрицательные моменты.